
Об авторе:
Евгений Никитин родился в 1981 году в Молдавии, впоследствии жил в Германии и России, сейчас живет в Израиле, в городе Ришон-ле-Цион. Закончил филологический факультет МГУ. Публиковался в журналах «Новый мир», «Воздух», «Знамя», «Новый берег», «Октябрь», Homo Legens, «Шо», «Артикуляция», «Литерратура» и других с поэзией, прозой, переводами, критикой и эссеистикой. Был одним из координаторов поэтического проекта в рамках 53-й Венецианской биеннале искусств (2009). Автор трех стихотворных и двух прозаических сборников. Входил в длинные списки премий «Дебют», «НОС», «Неистовый Виссарион», в премиальный лист «Поэзии» (2020).
Дедуктивный метод
Пришел к папе: тот бродит по квартире в одних трусах, все простукивает, переворачивает, светит фонариком в каждый угол.
— Привет, сынок, — говорит. — Ты умеешь искать потерянные вещи?
— Ну, могу попробовать.
— Тогда найди мой велосипедный насос. Я везде смотрел, даже в холодильнике.
— Насос — в холодильнике?
— Я рассеянный… Мог куда угодно засунуть!
Я хотел пошло пошутить, но не стал.
— Ну хорошо, — говорю. — Давай так. Когда ты его последний раз видел?
— Не помню… Наверное, когда накачивал колесо.
— А где ты его накачивал?
— В коридоре. Но там я везде смотрел! В каждый угол, на каждую книжную полку!
Я вышел в коридор, открыл платяной шкаф и, опустившись на корточки, извлек из его нижней части насос, который не было видно за дверцей.
— Охренеть! — присвистнул папа. — Как ты это сделал?
— Все очень просто, — сказал я. — Я воссоздал ситуацию. Ты накачивал велосипед на корточках. Поэтому я тоже нагнулся. В книжном шкафу ты, по твоим собственным словам, уже смотрел — остался платяной.
— Но я и в платяном смотрел!
— Правильно. Но ты, скорее всего, просто подошел, открыл шкаф и ничего не увидел.
— Точно.
— Если вещь сразу не видна, значит, ее что‑то заслоняет. Поэтому я смотрел за дверцей. И на уровне человека, накачивающего колесо. Я просто протянул руку — и нашарил насос.
— Гениально. Тогда у меня для тебя задание посложнее, — сообщил папа.
— Валяй. Я что угодно найду.
— Я уже неделю не могу найти тапок.
— Тапок?!
— Тапок, — подтвердил папа. — Везде обыскался. У меня всю жизнь такая проблема с тапками, ты не представляешь… В детстве мне тапки всегда приносила баба Иля. Я теряю — она приносит! Потом я женился на твоей маме — и она стала заботиться обо мне. Я так не люблю ходить без тапок…
— А во втором браке?
— А во втором браке мне сказали: ищи свои тапки сам. И я стал ходить в носках… А теперь я живу один. Решил: заведу‑ка я снова тапки. Долго выбирал. Сейчас носят черт-те что! Мне обычные таджикские тапки не подходят. Я искал нормальные тапки для белого человека, как у меня были в детстве. И теперь один тапок пропал.
— Ну ладно, — ответил я. — Я уже знаю, где твой тапок.
— Не может быть! Где?
— Под кроватью.
— Его там нет! — убежденно сказал папа. — Я там уже смотрел.
— Сколько раз?
— Сто раз, не меньше!
— Ну посмотри еще раз. Я тебе гарантирую: он там.
Папа полез смотреть, но ничего не нашел.
— Нету!
— А теперь смотри: я подойду к кровати и достану твой тапок. Ловкость рук и никакого обмана.
Я подошел к кровати и достал папин тапок.
— Техника на грани фантастики! — изумился папа. — Будто ты его сам спрятал! Я такого в жизни еще не видел! Что ты сделал?
— Главное: понять, что тапок в с е г д а под кроватью. Даже если ты его не видишь. Обрати внимание на форму предмета. Тапок сплющен и всегда случайно заталкивается под кровать.
— Но я же там СМОТРЕЛ! — крикнул папа.
— Поэтому я внимательно пронаблюдал, как именно ты смотришь под кроватью. Человек так устроен, что всегда повторяет одни и те же действия. Наверняка предыдущие сто раз ты высматривал тапок точно так же.
— А что ты изменил?
— Я посмотрел под другим углом.
Папа от удивления даже замолчал и надолго задумался.
— Я тут поразмышлял, — сообщил он через некоторое время. — Может, тебе не надо в Израиль?
— Почему?
— Тебе и тут есть чем заняться…
Я вернулся домой и сказал жене:
— Папа считает, что нам не надо в Израиль.
— Почему?
— Я нужен здесь, чтобы искать папины тапки.
— Очень смешно, — ответила Алена. — Какие папины тапки? Ты и свои найти никогда не можешь! Вечно я должна искать!
— Свои — не могу, — подтвердил я. — А папины — всегда нахожу.
Как я искал работу в Израиле
Если вам скажут, что в Израиле можно прожить без иврита — не верьте. Это полная чепуха.
Вы можете прожить без иврита в трех случаях: если вы программист, если вы здоровый тупой бугай или если вы сексуально раскрепощены. Программисты, как тараканы, выживут даже при ядерном взрыве. Здоровый бугай пойдет на стройку. А сексуально раскрепощенный человек продаст свою анальную девственность. Это можно делать регулярно, так как сложно проверить. Моя жена очень настойчиво рекомендовала мне этот вариант. Но я закрепощен.
Приехав и Израиль, я первым делом пошел в бюро по трудоустройству. На меня внимательно посмотрели и спросили:
— У вас какое образование?
— Высшее.
— Кем раньше работали?
— В офисе.
— Кем?
— Офисным работником.
Сотрудница бюро посмотрела на меня глубоким взглядом.
— Иврит, судя по вашему виду, не знаете?
— Нет. Зато знаю русский, немецкий, английский, немного испанский, также учил румынский, латынь, старославянский…
— У нас тут нет древних славян, — сообщила сотрудница бюро. — Тяжести поднимать умеете?
— У меня грыжа.
— Тогда у нас для вас работы нет.
На следующий день я увидел, что магазин кофе через дорогу от нас ищет продавцов. В ответ на мой запрос мне прислали описание 400 сортов кофе и попросили все это выучить. Я выучил примерно два. При необходимости описать оставшиеся 398 я собирался импровизировать. С этим подходом я успешно учился на филфаке.

В этот момент начался карантин, и все подобные заведения закрылись.
Как я провел карантин, рассказывать не буду, эти события слиплись в одно неразличимое пятно. Один раз я почти нашел подходящую работу:
«Требуются молодые отважные люди. Иврит не нужен».
— Алло, я по поводу вакансии.
— Ищете работу? Какую именно?
— В качестве отважного людя.
— Гражданство Израиля есть?
— Есть.
— Тогда вы нам не подходите.
Я так до сих пор и не понял, кого они искали и зачем.
В Израиле вообще много странного. Например, недавно у нас стала скапливаться вода под унитазом. Сантехник нашел протечку и потом сделал такую дикую вещь, что это до сих пор не укладывается у меня в голове: он достал из кармана комок какой‑то грязи, засунул в рот, пожевал и этим потом залепил трещину.
Я подумал, что это метафора всей моей жизни. В ней есть огромная дыра нелюбви, и я ее залепляю чем попало.
Наконец я решил устроиться в дом престарелых. Моя бабушка умерла в таком доме престарелых в Израиле, пока я жил в Москве. Я подумал, что если я буду работать в доме престарелых, то как‑то искуплю вину перед ней.
— Мы вас возьмем, если вы сделаете тест на коронавирус, — сказали мне. — Требование начальства.
Я пошел к врачу.
— Мы не делаем тест на коронавирус, если нет симптомов, — сообщил врач.
— А если вызвать скорую?
— То же самое. Сначала заболейте.
Я позвонил в дом престарелых.
— Они не делают мне тест. Хотят, чтобы я сначала заболел.
— Если вы заболеете, мы вас взять не сможем.
— А если я здоров, меня не протестируют.
— Ну так вернитесь, покашляйте.
Я снова отправился к врачу. Врач презрительно осмотрел меня и написал какой‑то диагноз на иврите. Понять ничего было нельзя, и я прогнал его через гугл-переводчик:
«16 мертвых находок: хорошее общее состояние необходимо, дыхательных расстройств нет. Морда — рубиновая, семяизвержения нет, правильные мочки уха».
Я не знаю, что там было написано на самом деле, но почувствовал себя униженным. Еще целый месяц я мудохался с этим домом престарелых. Они написали ходатайство в Министерство здравоохранения Израиля! Министерство выдало мне лично направление на тест, и мы ездили всей семьей в другой город, где меня торжественно протестировали посреди улицы в каком‑то вагончике, похожем на те, в которых продают мороженое в американских фильмах. Коронавируса не было.
Я чувствовал, что работа мне обеспечена, и похвастался нашей тель-авивской подруге Маше:
— Я буду работать в доме престарелых!
Маша внимательно осмотрела меня и спросила:
— В качестве престарелого?
На следующий день выяснилось, что вакансии больше нет. От коронавируса умерло слишком много престарелых, и новые работники были не нужны. Начались сокращения персонала. Я снова позвонил в бюро по трудоустройству.
— Есть работа на пластиковом заводе.
— Иврит не нужен?
— Для этого — нет.
— Для чего «для этого?»
— Вам нужно будет класть в коробки разные пластиковые штучки.
— И все?
— И все. С двенадцати ночи до семи утра.
Я сел в автобус и отправился на завод. Всю дорогу вспоминалось, как я приехал из Германии в Москву и работал зимой на рынке, бегая от ментов. Тогда первая жена мне сказала:
— Ты должен получить высшее образование! Я не могу быть женой продавца пиратских дисков.
— Но я же поэт! Ты будешь женой поэта.
— Я не хочу быть женой поэта — продавца пиратских дисков…
Мне пришлось поступить на филфак МГУ. Было это непросто. Начнем с того, что у меня не было денег учиться на платном. А на бесплатный не брали иностранцев. Школьный аттестат у меня был только немецкий.
Страшная тайна моей жизни состоит в том, что мы купили российский школьный аттестат в подземном переходе. Было это очень просто. В переходе стоял серый незаметный человек с табличкой «Аттестаты, дипломы». Он взял мои данные, через неделю перезвонил, и мы в том же самом переходе забрали готовый аттестат. По нему я и поступил.
И вот 6 лет учебы в главном ВУЗе страны, Stella Art Foundation, Венецианское биеннале, лонг-листы литературных премий, работа в МТС, «Эксмо» и Miele — и теперь я буду ночью «класть пластиковые штучки в коробки». В этом была какая‑то сладкая завершенность.
Когда я выходил из автобуса мне позвонили:
— Никитин?
— Да.
— Вы еще подумываете помогать престарелым?
— Меня на завод берут.
— Кем?
— Буду помогать маленьким пластиковым штучкам попадать в коробку.
— Не ходите.
— Почему?
— Вы там с ума сойдете.
— Ну а что мне — с голоду помирать?
— Идите к нам. Уход за престарелыми на дому.
Я не доехал до завода.
Теперь я трудоустроен. Денег мало, но в перспективе можно взять еще несколько дедушек. Пока их двое. Один — очень довольный жизнью, толстый, веселый дед по имени Ури. Мне рассказали, что до сих пор у него работали только девушки, и он «с ними начинал». Моя жена на это сказала: «Может быть, тебе приходить к нему в женской одежде?»
Я не понимаю ни слова из того, что Ури говорит. Правда, в основном он поет. Мы объясняемся жестами. Иногда я что‑то пытаюсь сказать: получается смесь из четырех языков, потому что они перемешались у меня в голове. Например, я собирался спросить его, где взять половую тряпку, и произнес такую фразу:
— Wo ist rag para הפצר?
«Wo ist» — это немецкий, «rag» — английский, «para» — испанский, а הפצר (рицпа) — иврит.
Ури нужна только уборка. Я подметаю весь дом, вытираю пыль, мою пол и посуду.
Потом я иду ко второму деду. Его нужно мыть. Ему 89 лет, и мыть себя сам он больше не может.
Моя жена и здесь продемонстрировала чудеса остроумия. Я спросил ее:
— Что думаешь, как лучше его мыть? Я же весь промокну.
— А ты тоже разденься!
Впрочем, оказалось, что в Израиле одежда высыхает быстрее, чем мокнет.
Деда зовут Моше. Моше нужно раздеть, переложить с кровати на инвалидное кресло, отвезти в душ и посадить на стул. На стуле я его намыливаю, мою, вытираю и везу обратно. Прикасаться к чужому, старому телу неприятно, но не так ужасно, как я воображал. Надо просто понять, что тело такая же безобидная вещь, как земля или песок. Причиндалы Моше моет сам, что является несомненным плюсом. Вчера, когда я поливал его водой, Моше неожиданно сказал на чистейшем русском языке:
— Я прошел всю войну.
Я вздрогнул, потому что не знал, что Моше может говорить.
— Великую Отечественную?
— Мне было 10 лет. Папа и мама погибли. Тогда я пошел в партизаны. Мне отморозило обе ноги. А вот эта рука сгорела. Когда война закончилась, мне было 15 лет.
Потом он снова ушел в себя.
Я вытер его насухо, отвез обратно в спальню и одел. Моше мгновенно уснул. Я отправился домой и всю дорогу думал о том, что эта работа имеет большое отношение к поэзии. Она ближе к поэзии, чем критика, редактура, издательское дело. Не знаю, почему, но я интуитивно чувствую, что это так. Может быть, потому что стихотворение — это как глоток воды, который тебе кто‑то подносит, может быть, потому что поэзия готовит человека к смерти. Понять это очень трудно и невозможно объяснить.
Обрезание
Через месяц после приезда в Израиль к нам в дверь внезапно постучался Дед Мороз. Я открыл, слегка ошарашенный, — впрочем, так нельзя сказать: человек либо ошарашен, либо нет — он сказал дежурное «шалом» и вежливо отодвинул меня в сторону. Развязывая мешок, он направился прямо к ребенку. На секунду мне показалось, что он собирается забрать Агату в Страну Рождества. Но Дед Мороз достал из мешка одеяло и подарил Агате.
— Новые репатрианты зимой всегда мерзнут, потому что привыкли к центральному отоплению, — пояснил он.
Агата обычно скептически относится к новым знакомым, но Деду Морозу почему‑то обрадовалась.
Он был настоящий — в красном халате, с бородой из ваты: все как положено. Я не встречал его больше тридцати лет. Стало ясно, почему Дед Мороз никогда не приходил к нам в России: просто он почувствовал себя евреем и уехал жить в Израиль.
— Конкурсы будем делать? — спросил он.
— Что за конкурсы?
— Кто быстрее пересядет с одной табуретки на другую и все в таком роде.
— Агата не ходит, — хмуро сказал я. — Давайте без табуреток.
— Ну ладно.
— Чаю будете?
— Валяйте.
Мы сели пить чай. Он пил, не отстегивая бороды. Потом пошли курить. Водки у меня не было.
— Как вам в Израиле? — спросил он.
— Холодно, — сказал я. — Извините, можно неловкий вопрос? Вы еврей?
— А вы? — спросил он.
— Я‑то да.
— Обрезаны?
— Это сложный вопрос, — признался я.
— Что же тут сложного — либо да, либо нет.
— Мне придется рассказать целую историю…
Я стал рассказывать. Еще год назад я уверенно отвечал «нет» на вопрос об обрезании. У меня даже есть рассказ о том, как я покупаю в синагоге на Китай-городе мацу и местные ортодоксы меня там безуспешно склоняют к обрезанию. Но недавно все изменилось.
— Понимаете, возвращается как‑то моя супруга из кинотеатра и говорит: «Я поняла, что ты обрезан».
— С чего бы это? — спросил Дед Мороз.
— Вот и я ей отвечаю «С чего бы это?». А она: «Герой фильма был еврей. И там показали его член. Он похож на твой!»
— Это еще ни о чем не говорит, — заметил Дед Мороз.
— Я тоже так подумал: «Это еще ни о чем не говорит». И забыл об этом. Но потом я сходил на эротический массаж…
— Это как? — спросил Дед Мороз.
— Ну… Это как‑то даже стыдно объяснять.
— Do your best.
Я объяснил.
— Получается, это разновидность секс-индустрии, т. е. эксплуатации женщин — строго заявил Дед Мороз, обнаруживая неожиданную культурную осведомленность.
— Совершенно верно.
— Вам должно быть стыдно.
— Мне и стыдно.
— Тогда зачем?
— Не знаю, — сказал я.
Мне предложил попробовать этот массаж один мой старый московский приятель. Он долго наблюдал, как я превращаюсь в рвущуюся тряпочку. Я плохо справлялся с жизнью — с работой, семьей, ребенком-инвалидом. Я считал, что судьба чем‑то обделила меня. А мой приятель, наоборот, умел любить каждодневный простой быт. Он решил, что мне надо попробовать погрузиться в какую‑то форму ада, чтобы тоже научиться ценить обыденность.
— А что такое «эротический массаж»? — спросил я тогда своего приятеля.
— Обычный массаж плюс «массаж лингама».
— Чего?
— Лингама.
— А что это такое — «лингам»? Похоже на «вигвам».
— Фаллический эвфемизм.
Я даже начал сочинять стишок:
«Как‑то раз у Черного вигвама
я хватился своего лингама…»
Приятель куда‑то позвонил, представившись чужим именем, и отвел меня в некий переулок. Это не был какой‑то темный, страшный переулок с красными фонарями — обычное ответвление одной из широких, шумных московских улиц неподалеку от Сухаревской. Подвальная дверь жилого дома открылась, и нас поманила пальцем пожилая женщина, одетая как билетерша в одном из московских музеев — какая‑то сиреневая шаль, кофта. Сначала мы попали в обычный офисный коридор со стойкой ресепшн. Правда, оттуда нас сразу же увели и заперли в маленькой, плохо освещенной комнатке. На ключ.
В комнате ничего не было, кроме душевой и кровати. Играла негромкая попсовая мелодия. Мы с приятелем с недоумением посмотрели друг на друга. Что нужно было делать? Раздеться, помыться, приступить к делу? Я был не готов к такой форме приятельской близости. Подождав пару минут, я постучал и подергал ручку, но безуспешно. Приложив ухо к двери, я услышал звук тяжелых шагов: какое‑то большое, одышливое тело двигалось по коридору к выходу. Мы стыдливо сели на кровать и стали ждать.
Наконец билетерша вернулась.
— Извините за ожидание. Клиенты не должны видеть друг друга.
— Поэтому вы прячете нас здесь?
Она тонко улыбнулась и отодвинулась, словно живая ширма. В комнату вошли шестеро девушек и выстроились вдоль стены. Я догадался, что билетерша была сутенершей. Девушки по очереди представились, делая книксен.
— Лена.
— Маша.
— Саша.
— Люба.
— Клава.
— Рая.
На них были специального покроя халаты, открывающие грудь и ноги. Все одинаково улыбались, демонстрируя зубы. Я смотрел на эти зубы и думал о том, что у меня самого во рту полная катастрофа. Я боялся зубных врачей, и мой рот до того износился, что я ковырял в нем не зубочисткой, а кухонным ножом. Если бы я работал эротическим массажистом, мне пришлось бы улыбаться одними губами.
— Выбрали девушку? — спросила сутенерша.
— Нет, не выбрал.
— Выбирайте. Вы вместе будете?
— Как это «вместе»?
— Ну, у нас есть услуга «семейной паре».
— Мы не пара! Я женат на женщине, — объяснил я, а приятель засмеялся.
— Я здесь за компанию, — предательски сообщил он. — Массаж нужен вот ему. А я лучше снаружи подожду.
— Ммм… «Подарок другу» — перевела билетерша эту фразу на язык услуг.
— У меня есть право на звонок жене? — спросил я.
— Только быстро, нам работать нужно.
Я набрал Алену.
— Алло… Короче, меня Д. притащил на эротический массаж.
— Ну сходите, сходите. Будет меньше нытья про твою упущенную молодость. Рассказ напишешь… Иди.
Сутенерша сделала такое движение, будто смотрит на часы.
Приятель сказал:
— Выбирай побыстрее, девушки уже устали улыбаться.
По правде говоря, они пугали меня, а не вызывали желание. Но я подумал, что если скажу это, то обижу кого‑нибудь.
— Я пойду с Любой, — виновато выбрал я.
Люба взяла меня под руку и повела по коридору. На каждом повороте она останавливалась и осторожно высовывалась из‑за угла, видимо, проверяя не идет ли навстречу другой клиент. Наконец она завела меня в точно такую же комнатку и сказала.
— Вот полотенце и тапки. Прими душ, я сейчас приду.
После этого она исчезла, и я снова оказался заперт на ключ. Медленно я снял с себя всю одежду. Было зябко. В зеркале на стене отражался голый тощий человек в стареньких очках, похожий на грустного Горлума.
Я зашел в душ и стал себя мыть. Через полупрозначную дверцу душевой кабинки я увидел, что Люба вернулась и села на кровать. Я мылся долго, стараясь оттянуть неизбежное. Потом мне пришло в голову, что я только отнимаю чужое время.
Люба равнодушно посмотрела, как я выползаю из душа и вытираю свои причиндалы. Последний раз так неловко мне было в военкомате поселка Рышканы.
— Теперь моя очередь, — сообщила Люба.
Она сняла халат и исчезла за дверцей душа. Предполагалось, видимо, что я должен возбудиться, наблюдая за ее обнаженным силуэтом. Но я немного замерз, сидя голым на кровати, и даже обдумал возможность снова одеться, но это было бы как‑то глупо.
Люба вылезла из душа и спросила:
— Что заказывали?
— В каком смысле?
— Ты меню смотрел? Что почем знаешь?
— Нет.
— Ясно. Значит, слушай, — деловито начала она. — Массаж плюс массаж лингама — три тысячи. Еще есть разные допы.
— Что?
— Допы. Они все за отдельные деньги. «Цветок сакуры», «сладкие пальчики», «поле чудес», «грустный Пьеро»… Некоторые любят, чтоб в костюмы переодевались.
— Мне только основную программу.
— Тогда три тысячи. Если хочешь трогать зону бикини — то четыре. Деньги вперед.
Я смущенно полез в брюки, висевшие на стуле, и дал ей деньги.
— Очень хорошо. Ложись на живот.
Я лег на живот и стал претерпевать массаж. Люба массировала молча и, как мне показалось, с раздражением. Тогда я сказал:
— Извините, что так вышло.
— Что вышло?
— Что вам приходится это делать.
— Ничего, нормально. А зачем ты извиняешься?
— Я посмотрел на это с вашей точки зрения. Приходит какой‑то вонючий мужик, надо до него дотрагиваться… Вы, наверное, меня ненавидите…
Она засмеялась.
— Нет, не ненавижу. Все хорошо. Но если хочешь, могу поненавидеть. Есть плетка.
— Не надо плетку… Много приходится работать?
— Смена — сутки. День и ночь.
— Без сна?
— Потом отсыпаемся.
Некоторое время я молчал, потом спросил:
— Как вы попали в этот бизнес?
Она пожала плечами.
— Литинститут, безработица… А тут тысяч двести в месяц выходит.
Я вздрогнул.
— Что такое?
— Нет, ничего…
И здесь Литинститут! Большая часть моих знакомых закончило эту кузницу горемык. Но это была одновременно кузница моих друзей, моих близких людей! Должен ли я признаться, что я поэт, писатель? Или это сделает всю ситуацию еще невыносимей? Я представил себе область применения литературного таланта в сфере эротического массажа. Нейминг услуг? Не отсюда ли взялись таинственные «ветка сакуры» и «грустный Пьеро»? Я представил себе прейскурант с услугами «синекдоха», «буря и натиск», «опрощение», «прирост смысла»…
— Перевернись на спину.
Я перевернулся и посмотрел на нее. Теперь я видел в ней свою духовную сестру, и во всем этом появился оттенок инцеста. Только эрекция предавала меня. Люба пригляделась и спросила:
— Ты еврей?
— Да, как вы догадались?
— Ты обрезан.
— Что-о? Не может быть! Это какая‑то ошибка.
— Никакой ошибки. Я тут членов навидалась.
С медицинской деловитостью она приступила к «массажу лингама», но мои мысли были далеко. Я будто смотрел на себя со стороны. Если бы существовала такая эротическая услуга, ее можно было бы назвать «выход из тела».
Мой мир пошатнулся. Я рос в семье атеистов, кто и зачем меня обрезал — было мрачной загадкой.
Дальнейшее, как я одевался, уходил, рапортовал другу — вспоминается в каком‑то тумане.
Вернувшись, я пересказал все это жене, и мы полезли в Интернет сравнивать изображения обычных и обрезанных членов. Все подтвердилось…
— Как же так?! — удивился Дед Мороз, когда я закончил рассказ. — Неужели ты никогда не замечал, что отличаешься от других мужчин?
— Я как‑то не смотрел на чужие члены.
— В школьном туалете?
— Не обращал внимания.
— У папы?
— Не приглядывался. Мужчины мне отвратительны. А если и видел, то не задумывался над этим. Эта тема не была в фокусе моего внимания…
— Невероятно, просто в голове не укладывается!
— Вот и консул так сказал.
— Какой консул?
— Израильский. Мы пришли на собеседование, он и спрашивает: «Кто из вас еврей?» Отвечаю: «Я». Он: «Обрезаны?» Я: «Как вам сказать… Это довольно сложная история. Как‑то раз моя жена пошла в кино…»
Дед Мороз захохотал так, что чуть не проглотил свою сигарету. Я спокойно ждал, пока он успокоится. Мне было не смешно. Досмеявшись, он спросил:
— А расследование ты провел?
— Еще как! Я звонил маме, папе… Папа сказал, что это невозможно. Мама тоже удивилась. Правда, она рассказала интересную вещь. Оказывается, я лет этак в пять долго болел и бабушка с дедушкой, поддавшись бытовому суеверию — кто‑то сказал им, что это сглаз, — повезли меня в местную церковь, чтобы поп меня благословил — вот только из этого ничего не вышло: я прокричал «попы чертовы» и плюнул на крест.
— Плюнул на крест? — поразился Дед Мороз.
— Да! Так рассказала мама. Видимо, я нахватался этого у папы. Или у Ленина, я ведь уже умел читать и читал все подряд, что было в доме.
— И что поп?
— Поп ужаснулся и сказал: «Этого мальчика больше сюда не приводите». И вот моя теория: дедушка с бабушкой тайно отвезли меня к какому‑то бельцкому раввину и тот меня обрезал. С дедушки станется: он сам был внуком кантора и даже умел читать на иврите. Другого объяснения у меня нет.
Дед Мороз долго молчал. Потом сказал:
— Никогда не слышал ничего подобного. Много у вас таких историй?
— Много, много. Целая книга.
Я подарил ему томик «Про папу» и проводил к двери. Я слишком разоткровенничался. Неудивительно, ведь в предыдущую встречу с Дедом Морозом мне было всего 6 лет, точно как Агате, а изображал его мой собственный отец.
Ульпан
Вчера прошел ровно год, как мы приехали в Израиль. Мы сделали это ради Агаты — у нее ДЦП. Теперь у Агаты есть школа — ее учат ходить, пользоваться ложкой и общаться с помощью карточек. Я ни о чем не жалею. Но правда в том, что для нас самих мир остановился. Настоящие репатрианты направляют всю свою энергию на новую жизнь. А мы как будто умерли, но наши неупокоенные души бродят по фейсбуку.
Первое время я пытался выучить язык. Я выбрал вечерний ульпан, потому что утром работал. Как бы вам объяснить, что такое вечерний ульпан? Если вы когда‑нибудь были на литературном вечере в ЦДЛ в начале 2000‑х годов, то, наверное, знаете это ощущение, будто находишься на вечеринке в доме престарелых. На стенах висят портреты старичков, в зале сидят старички и выступает тоже какая‑нибудь засушенная старушка. Но про нее говорят, что она «литературное открытие» и что «как поэт она очень выросла в последние годы». Группа вечернего ульпана тоже состояла из людей пожилого возраста, а курс вела девушка годков так под девяносто. Звали ее Фрума. Когда Фрума родилась, государства Израиль еще не существовало.
— Откуда вы приехали? — спросили мы ее.
— Из Бердичева.
— А когда стали преподавать иврит?
— Еще в Бердичеве.
— Кому?
— Бердичевцам.
Из этих слов я догадался, что государство Израиль возникло, когда бердичевцы выучили у Фрумы иврит. Тогда Бог просто перенес Бердичев в пустыню, и дело было сделано.
Ульпан был частным, но Министерство абсорбции согласилось его оплатить. Фрума еще до того, как впасть в маразм, обучила всех сотрудников Министерства абсорбции, и отказать ей было невозможно. Сам Беньямин Нетанияху иногда звонил Фруме, чтобы посоветоваться по поводу значений некоторых ивритских слов.
Недолго думая, Фрума стала задавать нам писать сочинения. Первое сочинение называлось «Мое любимое время года». В это время я как раз начал работать метапелем, то есть помощником престарелых, у толстого еврея по имени Ури. Было страшно жарко, а Ури заставлял меня каждый день мыть его пятикомнатную квартиру. Он был помешан на уборке.
— Почему сегодня мыть пол? Я же вчера мыть пол! — спросил я его.
— А что ты хочешь делать?
— Не знать. Но я же метапель, а не никайон (уборщик).
— А мне нужен только пол! — сказал Ури. — Мне не нужно менять памперсы. Меня не нужно мыть. И еду я сам готовлю. Так что помой пол!
Я тер пол тряпочкой и думал над сочинением «Мое любимое время года». Я отвык от этого жанра. Я не сочинял сочинений с тех пор, как ходил в школу в молдавском поселке Рышканы. Но вдруг я вспомнил, что однажды журнал «Новый мир» объявил конкурс эссе на тему «За что я люблю «Новый мир». И я написал эссе, которое начиналось так: «Я не люблю „Новый мир“ за то, что в нем нет ровным счетом ничего нового». Я решил воспользоваться этой наработкой. Я привожу текст в несколько улучшенном виде по сравнению с корявой версией на иврите.
«У меня нет любимого времени года. Летом — жарко, осенью — слякотно, зимой — холодно, а весной — снова слякотно. Правда, не в Израиле. Тут сплошное лето, так что выбирать особо не из чего. Если приспичило любить время года, то придется любить лето. Летом, как известно, травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка весною в сени к нам летит. Это Плещеев написал. Про весну. Но если бы Плещеев жил в Израиле, то мог бы то же самое сказать про лето. Например, летом попугайчик в сени к нам летит. Но он не был евреем, и в Израиль его бы не взяли. Впрочем, тогда и Израиля никакого не было».
За сочинение я получил двойку. Фрума сказала, что надо раскрывать тему. Если тему не раскроешь, то на экзамене по ивриту получишь мало баллов. Следующее сочинение называлось «Я никогда не был в Иерусалиме».
Честно говоря, я в целом люблю приврать, но только в деталях. А выдумывать, будто я никогда не был в Иерусалиме, хотя я там был трижды, я не мог. Поэтому я снова написал на двойку.
«В Иерусалиме я был трижды. Один раз с первой женой, один раз со второй женой и один раз — в своей голове, когда мне про Иерусалим рассказывал поэт Жбанков. Первой жене Иерусалим очень понравился, но после поездки мы развелись. Проникнувшись величием еврейской культуры, она поняла, что я — обыкновенный шлимазл. Поэтому я немного опасался возить туда вторую жену. Но все обошлось, и мы даже зарядили иконы, которые ей дала с собой мама».
— Какие иконы? — ужаснулась Фрума.
— Обычные.
— Вы же еврей!
— Так это не мои иконы, а тещины, — пожал я плечами.
— А кто такой «поэт Жбанков»?
— Что, вы Володю не знаете? — удивился я. — Он еще написал «Природа навевает молчание сна».
— Не знаю.
— Это великий человек. Есть история, как Жбанков в Иерусалиме встретил самого дьявола.
— Кого-кого? — удивилась Фрума.
— Дьявола. Сатану. Жбанков посетил Храм Гроба Господня и трижды обошел его против часовой стрелки. Тогда ему явился некий человек и предложил провести экскурсию по храму. Он сказал, что живет здесь очень давно и всех хорошо знает. Жбанкову после третьего круга храм уже надоел, и он находился в сомнениях. А человек просунул руку прямо в стену, порылся там и вытащил план храма.
— Как это «просунул руку в стену»?
— А вот так. Тогда Жбанков и почувствовал: что‑то неладно. И от экскурсии отказался. Он пошел дальше гулять по городу и заходил в разные другие храмы. Но везде замечал того же самого человека. То он в уголке сидит, то туристам что‑то объясняет. А в одном из храмов Жбанков увидел его прямо на сцене, где начиналась служба. Человек стоял сбоку и всех, кто выходил на сцену, ободряюще похлопывал по спине. Вот тогда Жбанков и понял, что это дьявол.
Полученные в ульпане познания я решил применить на работе. Но Ури не отличался большой словоохотливостью. Я приходил к нему к 8 утра, и пока я мыл полы, Ури отсыпался или смотрел телевизор. Его любимой программой был израильский аналог «Утренней гимнастики». Только сам Ури зарядку при этом не делал. Но на его лице выражался живой интерес к происходящему на экране. Во всей его квартире я не обнаружил ни одной книги, так что, вероятно, «Утренняя гимнастика» представляла собой крайний рубеж культуры, за который его любопытство не простиралось. Однажды, когда я подметал гостиную, он спросил меня:
— Где ты работал в России?
— В Miele. Это такая немецкая компания.
— И что ты там делал? Подметал?
Кроме Ури, за уборкой следили его канарейка и рыбка. Рыбка была довольно глупой и просто плыла в ту сторону, в которую я двигался мимо аквариума. Я для нее был примерно тем же, чем для Ури программа «Утренняя гимнастика». Канарейка, напротив, обладала удивительным для птицы интеллектом. Сначала она комментировала каждое мое решение каким‑то возмущенным чириканьем, а потом стала вылетать из клетки (Ури ее не закрывал) и сопровождать меня по всем пяти комнатам.
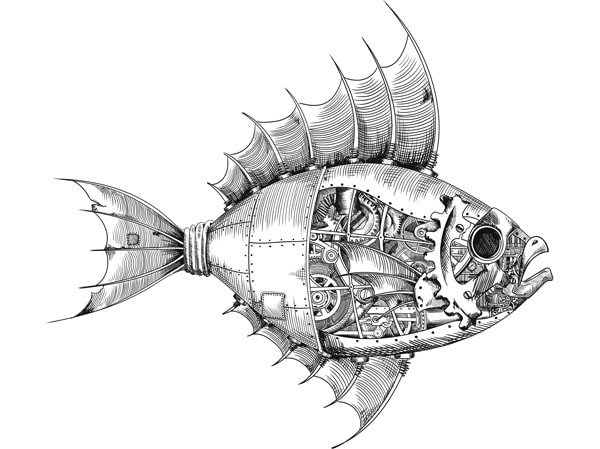
— Что это она делает? — спросил я.
— Гуляет.
— А как ее зовут?
— Канар.
Я так и думал, что Ури не отличается большой фантазией, но на всякий случай спросил, как зовут рыбку. Конечно же, рыбку звали Даг, что на иврите и означает «рыба».
Очень скоро в Израиле ввели карантин из‑за пандемии, и ульпан перешел в Зум. Фруме в силу возраста Зум давался плохо. Во-первых, она ничего не видела. Во-вторых, она ничего не слышала, и из‑за этого очень громко кричала.
Мы тоже ничего не видели. Весь экран почему‑то занимала верхняя часть лба Фрумы с остатками волос, окруженная тьмой. А от криков Агаты в одно ухо, а Фрумы — в другое я почти оглох. Не забудем еще и о том, что скорость интернета у всех участников была на уровне затерянной в снегах сибирской деревни. Урок проходил примерно так:
— ШАЛОМ!
— Шалом, шалом.
— ЧТО?
— «Здрасте» говорим. Слышно?
— НЕ «ЗДРАСТЕ», А ШАЛОМ! МЕДАБРИМ ИВРИТ!
— Беседер.
— ЧТО?
Естественно, от такой учебы толку было мало. Экзамен не сдал никто.
Перед экзаменом я успел написать прощальное сочинение на тему «Мой особенный друг». Я посвятил его канарейке.
«Все мои друзья остались в Москве. Я в Израиле никого не знаю. От этого бывает довольно одиноко, поэтому я подружился с канарейкой. Она живет в квартире, где я мою полы. Канарейка очень строга ко мне и ничего не прощает. Она ходит за мной по пятам и инспектирует, насколько тщательно я мою. Если я помыл спустя рукава, она садится на пол прямо перед шваброй и не дает мне двигаться дальше. Самое главное в этом деле — не наступить на канарейку. Я не хочу убивать единственного друга. Хотя сильное желание сделать это иногда настигает меня. Однажды я припугнул ее шваброй, и теперь она мстит. Она залетает в комнаты, где я уже закончил уборку, и оставляет на полу свои маленькие какашки».
В этом сочинении правдой было все до последнего слова. Я часто задумывался, зачем Ури завел канарейку. У этого человека всё было подчинено какой‑то утилитарной цели. Рыбку он, вероятно, собирался съесть в случае голодухи. Но в чем функция этой облезлой шизофреничной канарейки, оставалось загадкой. Потом я заметил, что не встречал в квартире Ури ни одного из этих летающих крокодилов, которые тут проникают к людям прямо через окна. Из-за одного такого Алена разбила свой смартфон. Помню, слышу ужасный крик и грохот, прибегаю — я думал, это началась очередная бомбежка — Алена стоит посреди кухни и смотрит на обломки смартфона. «Мне на голову упал таракан». Может быть, Ури завел канарейку с целью защиты от тараканов?
Я долго носился с этой теорией. Но потом сделал ряд новых умозаключений. Ури жил на седьмом этаже. Скорее всего, тараканы до седьмого этажа просто не долетали. Для них это было бы как высадка американцев на Луну.
Мне даже приснилась встреча русского таракана с израильским. Русский чахоточный таракашка, рожденный только ползать, один из тех, что всю жизнь живут где‑то за печкой и доедают крошечки за алкашами, подполз к жирному израильскому и сказал: «Возьми меня с собой полетать!» Он залез на него, как на дракона, и они полетели к Ури, на седьмой этаж. Уже в районе четвертого этажа летчик начал уставать. Было высоко, дул шквальный ветер. Они двигались какими‑то отчаянными рывками. Наездник давил своим весом. Но невероятными усилиями они долетели до седьмого этажа, и израильский таракан повалился на узкий подоконник, тяжело дыша. И тут появилась канарейка Ури. Она возвышалась над ними, не говоря ни слова, с огромным презрением. Они слишком устали, чтобы бежать, и просто лежали там, готовясь к смерти. Канарейка медленно подошла к ним и кончиком когтя столкнула вниз.










