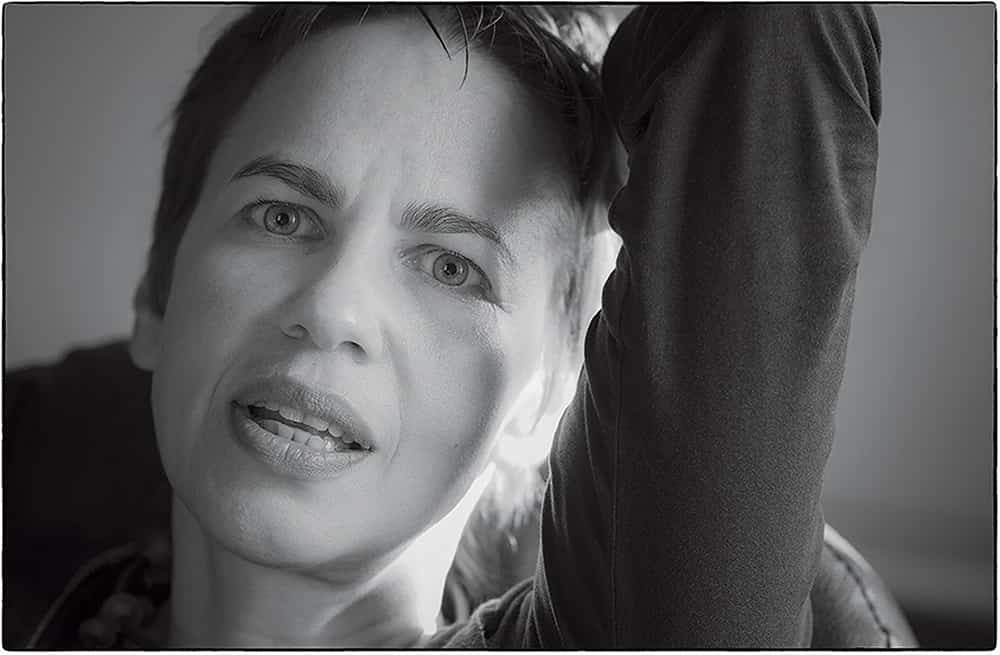Лауреат Премии Белкина считает, что родина может быть антонимом свободы, полагает, что Россию надо чаще измерять общим аршином, но непонятно, где его взять, утверждает, что «длинные ноги, светлые глаза, пухлые губы, достойный размер груди» это не об авторе, а о героине, и предупреждает, что ближайшее будущее может оказаться менее понятным, чем палеолит.
ШО Был ли у «Аппендикса» изначальный план, заранее продуманная структура? Начиная писать, ты сразу понимала, что это будет огромное произведение на 800 с лишним страниц?
— Был и план и структура, но, как обычно бывает при строительстве чего-то большого, в генеральный план вносились изменения, которые взаимодействовали с контекстом, структурой и фактурой уже построенного.
ШО Думала ли ты о том, что могла оказаться не в Риме, а в Париже, Берлине или Нью-Йорке? Представляла ли «Аппендикс» на материале другого великого города?
— Могла бы, например, Седьмая симфония Шостаковича быть написанной вне Ленинграда? Наверное, да, но ее бы не называли Ленинградской. В моем случае тот же исторический отрезок и его наполнившие события вместе с личностью автора смешались бы с другим гипертекстом — и получилось бы что-то другое. Другой «Аппендикс»? Возможно. Но не только бусины и страницы любимых книг, проглоченные в детстве, оказались бы в нем, но и язык, и основные темы.
ШО Позиция странника, скитальца — это с детства? Уезжая из Петербурга в Тарту, потом в Иерусалим, а после — в Рим, ты плыла по течению или против него?
— Продолжая твою метафору, скорее я попала в лавину, оказалась в водопаде вместе с другими, а выбравшись на сушу, пыталась не попасть в следующий и с подозрением стала относиться к любому течению. Плывущий против него не обязательно чудак, безумец или герой-спасатель, может быть, ему так легче добраться до того, что он ищет. Если иметь в виду наш культурный жест и нашу роль, трудно сказать, плывем ли мы против течения, или по нему. Мы сами можем обманываться.
Мне-то кажется, что я не плавающее, а идущее. И мне нравится ощущение встречного ветра, уже, увы, не всегда в буквальном смысле, и еще не протоптанные (во всяком случае, на первый взгляд) или позабытые дороги, инакость, какие-то строения на отшибе, безлюдье, заброшенность, свалка. Меня всегда манил побег за территорию пространства, которое по рождению должно было быть моим, моего языка, фиксированной точки зрения, манила попытка понять, до какой степени можно мимикрировать или камуфлировать, чтобы подсчитать отличия между собой и другим. Или даже притвориться мертвым, чтобы наблюдать за незнакомой жизнью исподтишка.
ШО Рим — мир, но Roma — amor. Насколько язык определяет наше восприятие? Как оно у тебя изменилось за почти что двадцать римских лет?
— Мне трудно выйти из своего сознания, чтобы это оценить, но если судить по старым дневникам, то, на первый взгляд, почти не изменилось. Звуковая (Рим все-таки писался с «И восьмеричным») зеркальность мiра и Рима питает русскую культуру, но Рим — это не мир (world), а миры, или даже Вселенная. И уж, конечно, Рим — не мир (peace).
Палиндром Roma — amor можно расширить крылатой латинской фразой, которая в Средневековье обросла анекдотом о Святом Мартине, сражающемся с дьяволом. Когда Мартин превращает несчастного в осла и забирается на него верхом, заставляя идти вперед, дьявол ему говорит: «Signa te, signa, temere me tangis et angis: Roma tibi subito motibus ibit amor» — «Запиши себе, запиши, напрасно ты меня трогаешь и мучаешь, Рим тебе сразу через движение будет любовью».
О какой любви говорил ищущий уловки дьявол, с которым ассоциировалось античное прошлое, возводящее в том числе и на палиндроме Roma-amor (подразумевалось, что предком императора был сын богини Венеры — Эней, даже если правитель не имел кровного родства с династией Юлиев) свою государственную пропаганду? Это любовь, в которой отражалась власть, или любовь святого?
«Любовь» — одно из скрытых названий Рима, но не единственное. По-итальянски «город» — женского рода, Roma — это женщина без возраста, Рим же, в моем представлении, — молодой человек, ведь культурная память славян куда короче, чем у латинских народов. В сознании (без нажима, карандашом) записался еще один язык — и все отсюда вытекающее — поверх родного.
ШО Почему свобода для тебя оказалась важнее родины?
— Родина — во мне, и я ее часть, а свобода — это что-то недосягаемое, но вожделенное. Даже больше, чем бессмертие, потому что все хотят свободы, но не все — бессмертия. Родина или свобода для жителей некоторых стран, в том числе России, действительно могут показаться антонимами или оксюморонами, но, в принципе, свободе противоречит все, не только родина.
Как известно, большое видится на расстоянии, оно незабвенно, а мелкие помехи невидны и забываются. Словами Хвостенко еще можно было бы сказать, что «я б мог болтаться меж двумя столицами, но я не знаю, с кем придется кланяться». В географически узко понимаемой родине много препон при приближении. Но Алиса, опираясь на воспоминание о пропорциях, внутри себя знала, что герцогиня, которая приговаривала ее к казни, — всего лишь карта из колоды.
Легче дышится вне родины, когда она тяготеет к единопутью (может, не случайно будто сам язык подбросил на трон последнего правителя), речь не только о пути политическом, но также и о культурной иерархии. Ощущая тенденцию к окрику, муштре и единообразию со стороны моей родины, я, как путто — изображению папы на потолке Сикстинской капеллы, готова показать ей кукиш.
Моя любимая родина часто монологична, пользуется лишь несколькими, пусть и очень мощными, аккордами, а все что вне их — как будто лежит и вне ее слуха. Она говорит сама с собой и устами носителей ее языка — о себе. Это у нее восхитительно получается, но вот уже лет триста она повторяется, спотыкается, разбивается до крови на том же месте, впадает в паранойю и частенько открывает Америку, ее проблемы с памятью — мировая язва, хотя она не старая маразматичка, а еще молодая девица. Но поскольку она — это и я тоже, а также мои друзья, мой язык, а также поэзия, и проза, на нем написанные, то я слушаю ее с большим вниманием и пытаюсь понять ее умом.
Стоило бы почаще измерять ее общим аршином, это могло бы ей помочь быть более вменяемой, но у меня такого аршина нет. Однако я вижу какое-то количество молодых людей, которые дают мне надежду, что за состоянием больной идет наблюдение. Может, через несколько лет, когда их внуки полетят на Марс, она пойдет на поправку.
ШО Как ты думаешь, в чем причина нынешнего возврата России к авторитаризму?
— Ответ на вопрос, почему это происходит, в прошлом. Без его выяснения и осознания, без его осуждения на юридическом уровне не начнется его преодоление, а будет продолжаться лишь вытеснение и неосознанное повторение.
Я уезжала в 1993 году из страны, которая — мы наивно думали — могла стать демократической. В начале нулевых я раздумывала, не вернуться ли в Петербург, но тогда уже стало понятно, что Россия движется к единовластию и тирании. 2014-й стал рубежом. Сегодня моя родина — полицейское, тоталитарное государство без минимальных свобод (высказывания, выборов, без независмых средств массовой информации), истерическая пропаганда патриотизма, коррупция, политзаключенные — следствия этого.
 ШО Ощущала ли ты некую робость при описании откровенных сцен? Приходилось ли тебе преодолевать естественную инерцию стыдливости?
ШО Ощущала ли ты некую робость при описании откровенных сцен? Приходилось ли тебе преодолевать естественную инерцию стыдливости?
— Юра, поясни, о чем ты, я ничего «такого» не нашла. Предваряя твой ответ, могу сказать, что если сцены «откровенные», то стыдливость и робость там ни к чему, а инерцию я пыталась преодолевать на протяжении вообще всего текста.
ШО, А когда писала о себе «длинные ноги, светлые глаза, пухлые губы, достойный размер груди, крупная выпуклая задница», был в этом какой-то вызов или просто спокойная констатация фактов?
— Я писала это не о себе, а о своем персонаже, в чем-то походящем на меня и совпадающем со мной, и это описание было важно в контексте разговора о работодателе и товарном виде работника.
ШО Твой персонаж все-таки ужасно похож на тебя. Кстати, в чем разница между автором «Аппендикса» и его героем-рассказчиком? Ну, кроме того, что один из них автор, а другой — герой?
— Я нашла по крайней мере десять с половиной отличий. Но ведь для прочтения романа, этого и любого другого, совсем не обязательно знать автора и гадать, под какой или какими масками он появляется на страницах.
ШО Коммерческий автор всегда думает о читательском восприятии, радикальный экспериментатор, по-видимому, не думает о нем вообще. Пыталась ли ты читать свой непростой для чтения роман чужими глазами?
— Еще до издания роман целиком читали четыре человека, весьма разные между собой, двое из них пережили иммиграцию, двое других всю жизнь жили современной литературой и в современной литературе. Они меня подбадривали. Но мы сами себе выбираем идеального читателя, и для него и пишем. Мой идеальный читатель — тот, с кем я могу вести диалог, и порой думать, что это он, а не я написал мой роман.
ШО Откуда ты так хорошо знаешь, к примеру, бразильские и румынские реалии, все эти топонимы, религиозные культы, популярные местные напитки и прочие бытовые детали?
— Это тайны ремесла. Или можно еще назвать их семейными тайнами.
ШО В качестве эпиграфа к одной из глав ты взяла слова Иллариона Прянишникова о правде в искусстве, о том, что выдуманное важнее подлинного. «Аппендикс» иногда кажется документальной прозой, иногда — чистым фикшеном. Как соотносятся в романе реальность и вымысел?
— Киножанр докуфикшена востребован в эпоху, когда настоящее похоже на фантастику, ближайшее будущее может оказаться куда менее понятным, чем какой-нибудь палеолит, когда количество катастроф зашкаливает, а с помощью современной технологии мы вездесущи, и эти катастрофы стали просто мебелью во время наших ужинов. Прием введения прямой и как бы живой речи, идея искусства как отражения действительности мне не близки. Ощущение документальности происходящего (в сценах с мигрантами, например) — способ оказаться внутри и затянуть внутрь читателя в качестве свидетеля и соучастника в контексте нереалистического текста — можно было бы считать продолжением игры с жанрами, хотя эта трагедия не предполагает никакого отстранения, и мне хотелось, чтобы она оказалась внутри каждого. Так если не проглоченная, то хотя бы максимально приближенная камера регистрирует преступление и безумие, иногда очень быстро выхватывая и чуть укрупняя детали в темноте бездорожья и бессилия.
Цитата из Иллариона Прянишникова о том, что вымысел нам, возможно, дороже правды, соседствует с цитатой из Ротко о том, что когда пишешь большую картину, то оказываешься внутри нее. Вымысел как преодоление недостатков собственного аппарата наблюдения мне дорог, но также я оказалась (и) внутри большой картины. В этих эпиграфах мне была важна еще и эстетическая удаленность одного художника от другого.
ШО Мне, простодушному, кажется, что столь витиеватый ответ — это своего рода уход от ответа. А вот можешь ли ты сказать с последней прямотой: кого-нибудь из твоих римских знакомых трансвеститов / трансгендеров похищали?
— Как в любом романе, события, произошедшие со мной, с моим ближайшим окружением, со знакомыми знакомых, с гражданами из теленовостей и газетной криминальной хроники, смешиваются с тем, что могло бы произойти гипотетически (а произойти может что угодно). Но если ты настаиваешь на поиске отражения реальности из жизни трансгендеров, то в 2009 году пара девушек была замешана в скандал вокруг наркотиков и секса с президентом региона Лацио. Его сняли с должности, одна из трансов была убита, ее обугленный труп найден в ее сгоревшей квартире, в которой стояли готовые к отъезду чемоданы. Убийцу не нашли, мотивы убийства не установлены, дело после нескольких лет вялых расследований закрыто. Однако мне кажется это куда более мелкой реальностью, чем почти ежедневная гибель людей, бегущих из своих стран в Европу.
ШО «Аппендикс» воспринимается как opus magnum, после которого не так-то просто писать что-то еще. Это, как ты понимаешь, плохо закамуфлированный чудовищный вопрос о творческих планах.
— Писать всегда не просто, а теперь, когда все мной написанное будет сравниваться с «Аппендиксом», наверное, труднее будет показывать то, что получилось. Но мне самой эта книга не мешает. Мне нужно было ее закончить, чтобы продолжать писать все остальное, что я хочу, что задумано и задумывается.
«ШО» о собеседнице
Александра Петрова — поэт, прозаик, переводчик. Родилась в 1964 году в Ленинграде, окончила филологический факультет Тартуского университета. В 1993-м переехала в Иерусалим, училась на факультете истории искусств Еврейского университета. С 1998 года живет в Риме. Автор книг стихов «Линия отрыва» (1994), «Вид на жительство» (2000), «Только деревья» (2008), романа «Аппендикс» (2016, Премия Белкина, шорт-лист премии «НОС»).