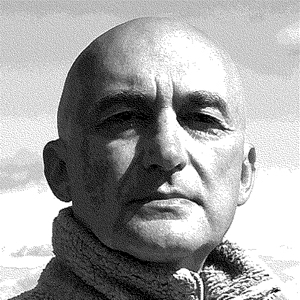
Двор на улице Правды
Летучая мышь на открытии международного книжного фестиваля. Предчувствие
Бабочка-психопатка? Свихнувшийся стриж?
Чуждая чарам воздушная черная клякса?
Тут меня осенило: летучая мышь!
Только она умеет вот так метаться.
В ожидании открытия люди толпились на
Пятачке перед входом как бы во мгле кулисы,
Где журчали фонтаны, вздыхал океан, и луна
Озаряла гибискусы, пинии и кипарисы.
Подъезжали машины. В нашем полку
Все прибывало. Это ль не праздник книжек?!
Главное ж, как обычно, происходило вверху:
Там, где порхала летучая мышь и выше.
* * *
Из домика под крышей-одеялом
На свой же непрозревший риск и страх,
Из темноты, пульсирующей алым,
Из глубины воззвах.
Из комнаты, где вещи впали в ступор
От счастья невообразимых бед,
Как будто домик превратился в рупор,
А голос — в свет.
* * *
Привыкнуть к этому нельзя вообще
Ни тут, нигде, ни в праздники, ни в будни.
Перед лицом контуженных вещей
Я в том клянусь торжественно и чудне.
Мы пыжимся (естественно, вотще)
Вообразить, что остров обитаем —
Пальто висит! — в присутствии вещей
И видимом отсутствии хозяев.
Какой-то звяк! Я думал, ключ — увы,
То звякнули опущенные звенья.
Вот Пятница жует пучок травы,
А где Суббота или Воскресенье?
Понятно, что вот так нехорошо,
Что нас найдут и отвезут обратно
Туда, где нам уже или еще
Понятно то, что слишком непонятно.
* * *
Он укатил, и дождь погас,
Остались только бесцветный гул
И темнота, в которой, как во всех прекрасных
Стихах, мерцали время, зеркало и стул.
Не будем важничать — мы тоже
Еще пока
Окружены похожими предметами,
Белеющими ночью, как река.
Не будем унывать — мы тоже,
Как те и тот,
Наматываем шарф, выходим из подъезда
И раскрываем зонт.
В конце концов, лет через двести-триста,
Как обещал Антон,
Жизнь изумительная, новая, прекрасная
Обступит всех живых со всех сторон.
* * *
Сквозь черты лица, выражение глаз и рук
(Усмехнувшемуся щелбан — так бывает!)
Было видно, как время делает полукруг,
Приземляется в будущем и взлетает,
Лет примерно на сто назад, на сто вперед
Размахнув слепящие крылья-числа.
Посредине — дыхальца, трубка-рот,
Брюшка, грудка, усики, щупик смысла.
* * *
Счастья было много-много,
А теперь тю-тю.
Тварь дрожащая тревога
Делает кутью.
Рис, изюм, немного меда,
Можно чернослив.
Равнодушная природа
Смотрится в залив.
Слышен чаек крик сердитый,
Комариный смех.
Где защита? Нет защиты.
Удалили всех.
Удалили, поселили
Непонятно где.
Серебристый призрак пыли
Ходит по воде.
* * *
Первенство по самбо. Длинный зал.
Запах пота, хлопка и… левкаса.
Я тогда Флоренского читал:
Ксерокопию «Иконостаса».
Я принес с собой ее тогда
С чистой курткой (мама постирала)
И читал урывками — ну да,
Прямо там, не уходя из зала.
Я читал про вывернутый смысл
Времени, границу сна и яви,
А потом вставал и выходил
На ковер в неочевидном праве
Находиться сразу там и здесь,
На ковре и в листьях слов и — ух ты! —
Получалось сделать «ахиллес»,
Оставаясь чем-то вроде буквы.
* * *
Что значит быть собой — большой вопрос,
Но иногда мерещатся ответы
Вот в этом сочетании берез,
Черники, елок, мха и бересклета.
Вы скажете: «Нашелся Пастернак»,
А я на это вам скажу: когда мне
Вчера в лесу пропели Guten Tag,
Я сразу вспомнил Когена и Марбург.
Я вспомнил лязг и блеск когтистых крыш,
Тбилиси, Переделкино и Лондон,
Я мог бы вспомнить Пермь или Париж,
Венецию и Пизу, но не вспомнил.
Зато я вдруг увидел сам себя,
Как я стою вот так, не забывая
О счастье… Пастернак не Пастернак,
Я знал ответ… Теперь опять не знаю.
С пустой корзинкой
Yet…
Coleridge
Я бродил целый день
По дорожкам, овражкам, полянкам,
А нашел ничего,
Как сказала б моя англичанка.
И была б неправа,
Потому что то прямо, то криво
То кора, то трава
Мне мигали, что мертвые живы.
Мне подмигивал мох,
И лишайник, цепляясь за ветки,
Улыбался, как мог,
Со стены самодельной беседки.
Лес в полосках верже
Весь светился то ярко, то слабо,
Как еще и уже —
Англичанка меня поняла бы.
Люди в отпуске
Мнемозина взмахнет покрывалом,
Ничего не имея в виду,
А тебе уж великое в малом
Замаячит на тихом ходу.
В этом акалептическом мире
Даже вера и та не к лицу.
Тут не Нилус, а просто четыре
Человека в сосновом лесу
В дачной вечно-зеленой свободе,
С пляжным плохо надутым мячом
Вот гуляют, журча о погоде
Или, можно сказать, ни о чем.
Эта встреча не тянет на чудо
И вообще ни на что, а тогда
Почему ж ты застыл, как Гертруда
Со зрачками известно куда?
Скоро небо совьется, как свиток,
Горы дрогнут и тронутся с мест,
Звезды рухнут на землю, а ты тут
Про какие-то дачу и лес.
В мае 1959 года
Когда в антракте
она гуляла по театральному фойе,
разглядывая огромные актерские физиономии на стенах,
к ней подошел
импозантный господин средних лет
в лакированных туфлях и с галстуком-бабочкой.
«Простите, — сказал он низким бархатным голосом
карикатурного соблазнителя, —
мне кажется, я вас где-то видел.
Может быть, на вечерах у Гольденвейзера?»
Почему-то мне стало ужасно смешно,
я не выдержал и расхохотался,
и впервые пошевелился так,
что мама это почувствовала
и радостно улыбнулась седоватому джентльмену,
а на самом деле мне,
сидящему у нее внутри.
Потом она засмеялась и зачем-то сказала:
«Может быть»,
хотя никогда в жизни
не была на вечерах у Гольденвейзера.
Тут появился папа,
и господин в бабочке,
выразив надежду на новые встречи,
галантно удалился,
а мы с мамой продолжали хохотать,
повторяя про себя:
«На вечерах у Гольденвейзера»,
и никак не могли остановиться.
* * *
В просторной комнате из слов
На удивленье мало слов,
А те, что есть, стоят, как дети
На танцах to the end of love,
Нет, это взрослые дела:
Кто там в малиновом берете
С послом испанским бла-бла-бла?
Faux pas, фиаско и потери,
Успех, которому не рад —
Не то, что световой квадрат
Окна на фоне белой двери.
Кино (в ролях Главкон, Сократ),
Экран, естественно, в пещере.
Слова волнуются, дрожат.
* * *
Разве я виноват, что родился и вырос в Москве —
Тот еще оборот (я про это «родился и вырос»).
Так бы мог излагать завотделом в закрытом КБ,
Наш сосед-фронтовик Михаил Александрович Пинус.
И при чем тут «совдепия», «плач по совку», чуть ли не
Ностальгия по Брежневу, кстати… Нет, все-таки лучше
Воздержусь. Просто вспомнил, как Штейнберг рассказывал мне
О полковнике Брежневе, бросившем вдруг а-ля Тютчев
Вызов дисциплинарным условностям и
Удаленном за это на Малую землю с угрозой
Легендарной карьере… «Приятный был малый Л. И.,
Так говаривал Штейнберг, но — тут он вздыхал — не Спиноза».
Эх, вздыхаю и я, непонятен суровый приказ,
Где свои, где чужие, где тыл, а где линия фронта.
И все дальше и дальше, дымясь, уплывает от глаз,
Как в балладе Егора Исаева, край горизонта.
* * *
На волнах покачивались чайка, дядя Ваня и три сестры.
Пожилая актриса (помню-помню, у Чехова не пожилая),
Полулежа в шезлонге — а что ж ей быть вне игры? —
Ела вишни, понятно что представляя.
Раньше, до Чехова, люди тоже купались, завтракали, смотрели в окно,
Разочаровывались то в этом, то в том, скучали,
В общем, жили примерно как мы (плюс-минус), но —
От борта в середину — еще не знали,
То есть, может, знали, но как бы не до конца,
Что пока они передают соль, потягивают — скажем для рифмы — «Асти»,
Складываются их судьбы, разбиваются их сердца,
Слагается (странное слово, да?) их счастье.
Двор на улице Правды
Почему-то там никогда никого не было,
ни единого человека.
Только маленькая облупившаяся статуя дискобола,
Каменные скамейки и гигантские, выше домов, тополя.
Наверное, когда-то тут играла радиола
И пары танцевали, пыля,
Но в конце шестидесятых только мрела пустота,
Чернел асфальт и синела ледяная,
Вот именно что,
твердь,
С которой на меня, не мигая —
Я старался не поднимать глаз, но чувствовал —
Смотрела смерть.
А я смотрел на свои детские ноги
И думал, что лет семьдесят, а то и все девяносто
У меня еще есть,
А это много, утешался я, очень много.










